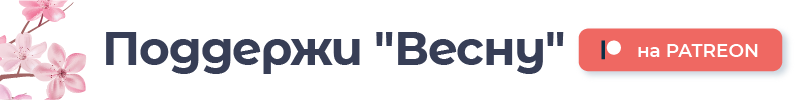Вацлав Гавел: Если власть уничтожает своих граждан, мировое сообщество обязано вмешаться
Пражская весна началась зимой 1968 года с приходом к власти в Чехословакии реформаторского крыла компартии. Закончилась летом, спустя восемь месяцев — с приходом советских танков в Прагу.
Мгновение надежды обернулось затяжной национальной катастрофой, стремление к свободе — унижением достоинства народа. О событиях 40-летней давности в интервью российской «Новой газете» вспоминает их свидетель и участник, драматург, бывший диссидент и политзаключенный, последний президент Чехословакии и первый президент Чешской Республики (1993—2003) Вацлав Гавел.
— Пражская весна — одна из доминант эпохи шестидесятых? Какой вам запомнилась эта эпоха?
— У шестидесятых были особая атмосфера, свой стиль, своя мода. В общественную жизнь вступало поколение, не познавшее трагедию Второй мировой войны, не прибитое, не выхолощенное холодной войной. У этого поколения был иной, я бы сказал, незамутненный взгляд на окружающий мир.
Смею утверждать, что я был не только созерцателем той эпохи, но и в определенном смысле ее «действующим лицом»: в 60-е были поставлены мои первые пьесы, которые потом разбрелись по свету. К тому же Пражская весна сделала меня выездным, у меня наконец-то появился заграничный паспорт (до этого — неосуществимая мечта), и я отправился в Америку — на премьеру своей пьесы. А в Америке — студенческие забастовки. В бродвейских театрах — бескомпромиссно одетая, патлатая публика в коралловых бусах. Спектакль «Волосы» прямо с театральной сцены выплескивался в зрительный зал, из зала — на улицы и дальше — на массовые митинги в Центральном парке Нью-Йорка.
Было ощущение, что мир сдвинулся с мертвой точки. Моду диктовали «Битлы», Лу Рид, Энди Уорхол и независимые студенческие движения. Пик шестидесятых — Пражская весна, забастовки студентов в Америке, студенческая революция в Париже… И в Чехословакии, кстати, в противовес официозному коммунистическому союзу молодежи, стали быстро и неожиданно возникать независимые организации, не обремененные идеологической фразеологией. Это была «инициатива снизу», никто не заставлял, да и не мог заставить свободных молодых людей объединяться свободно.
Таким я запомнил это время.
— Выходит, Пражская весна — это бунт молодежи против тоталитарной системы? Но ведь и в самой компартии Чехословакии было немало противников этой системы. Какую роль играли они?
— Иногда приходится слышать, что за Пражскую весну, за события 68-го, за саму попытку построить «социализм с человеческим лицом», безусловно, имевшую международное значение, оказавшую влияние на коммунистическое движение в мировом масштабе, мы должны благодарить коммунистов-реформаторов, особенно — молодых. Действительно, они выдавили из компартии консерваторов, поэтому я не буду приуменьшать их заслуги. Но хочу подчеркнуть: коммунисты были вынуждены пойти на реформирование системы под давлением общества. Власти попросту было некуда деться. Процесс самоосвобождения людей активировался небывалым ростом их самосознания и очень быстро перекинулся на внутрипартийную жизнь, повлиял на мышление отдельных коммунистических лидеров.
В связи с этим вспоминаю съезд чехословацких писателей в 1967 году. На нем происходили прелюбопытные вещи. Некоторые мои коллеги — Милан Кундера, Людвик Вацулик, Павел Когоут, другие бывшие коммунисты произносили на съезде очень красивые, радикальные, я бы сказал революционные, речи. Но меня в этих речах серьезно задевал тот факт, что, призывая к конфронтации с коммунистическим режимом, коллеги одновременно шли на смысловой компромисс. Например, от них я услышал, что высшей ценностью является социализм или социалистическая поэзия. Это что — стихи о национализации? Они не отвечали, да и не могли ответить на этот вопрос. Я, в свою очередь, предпочитал обсуждать конкретные вещи, формулировать конкретные требования и не ввязываться в идеологическую свару, из которой по определению невозможно выйти победителем. Поэтому и говорил о запрещенных, брошенных в тюрьмы писателях, о закрытых режимом журналах, предлагал новый устав союза, где ведущую роль играла бы не коммунистическая партия, а плюрализм мнений.
В общем, шестидесятые — время хитросплетений: с одной стороны — коммунисты-реформаторы, с другой — те, кто никогда не был встроен в коммунистический режим. Это два полюса, которые невозможно вырвать из контекста Пражской весны.
— Каким вам запомнилось лето 1968 года, где вас настигла оккупация Чехословакии?
— Вопреки законам природы наша оттепель началась зимой. На знаменитом январском пленуме ЦК КПЧ коммунисты-реформаторы взяли верх над консервативными товарищами по партии. Никто тогда не понимал, чем все это может закончиться. Даже сами носители внутрипартийных перемен — например, Дубчек (первый секретарь ЦК компартии Чехословакии) или Смырковский (председатель Национального собрания) — не понимали. Но таково уж устройство любого коммунистического режима: стоит кому-нибудь приоткрыть хотя бы форточку, и в затхлое, задраенное помещение непременно начнет поступать свежий воздух. Кстати, впоследствии мы это могли наблюдать во времена правления Горбачева.
Но вернемся в 68-й. Поначалу Александр Дубчек был для общества одним из партийных функционеров, практически никто не видел разницы между ним и «ястребами» в партии. Но под давлением общества, по мере освобождения прессы от коммунистической цензуры реформаторы начали брать во внимание требования огромной массы людей.
Коммунисты с удивлением заметили, что могут быть популярны в народе, что их могут приветствовать не только пионеры с букетами и не только мобилизованные «по случаю» толпы трудящихся. Стихийная поддержка, о которой коммунисты прежде не ведали, их вдохновляла. Они даже пытались сдерживать этот порыв, но не сильно, потому что к этому моменту чехословацкое руководство уже было в очень серьезных контрах с Москвой.
А в подсознании жили не только огромная радость от происходящего, но и опасения, даже страх: чем все это обернется? Помню, мой хороший друг, актер Ян Тршиска сказал тогда: «Такое прекрасное лето не может кончиться хорошо». Оно и не кончилось. Оккупация меня застигла в Либереце. Там была настоящая бойня. В толпу на площади въехали танки, люди попали под гусеницы. Началась автоматная стрельба. Я видел, что стреляли до смерти напуганные, обезумевшие парни в советской форме, которые не знали, где и почему оказались, не понимали, что происходит. Видимо, из-за этой трагедии в Либереце не остался советский гарнизон, танки ушли из города. И сразу следом начались массовые митинги. При городской ратуше была организована команда, которая возглавила этот мирный протест. Я ежедневно писал комментарии для местного радио. У нас даже было свое телевидение — студию оборудовали недалеко от города.
Между тем оккупанты быстро дали о себе знать, и мы были вынуждены скрываться, тайно добираться на радио в сопровождении охраны из добровольцев и выходить в эфир. На местном заводе нам оформили удостоверения, чтобы в случае опасности мы смогли раствориться среди рабочих.
Наше сопротивление длилось неделю — до возвращения чехословацкой делегации во главе с Дубчеком из Москвы. А после воцарения Густава Гусака на партийно-государственном троне началось беспощадное закручивание гаек, наступило время партийных чисток, тотальной деморализации общества. Режим буквально заставлял людей присягать на верность себе и оккупантам.
С драматической, психологической точки зрения было интересно наблюдать, как люди менялись, изменяли себе. В 69-м году появились первые политзаключенные, и мы составили петицию с требованием их освобождения. Я собирал под этим обращением подписи, многие отказывались подписываться и объясняли свой отказ незамысловато: мол, достаточно настрадались и хотят жить спокойно. А некоторые вообще назвали петицию провокацией.
С другой стороны, это было фантастическое время человеческой солидарности и сопричастности. Хотя я понимал, что долго это время длиться не может, что это только мгновение в истории, которое я, правда, помню до сих пор.
— Когда вы поняли, что с Пражской весной покончено, когда умерла последняя надежда?
— Вспоминаю, как по радио читали заявление президиума ЦК КПЧ о вторжении «братских» армий. С одной стороны, люди отказывались верить, что такое вообще возможно: сотни танков и тысячи солдат оккупировали страну, не имея для этого мало-мальски серьезных причин. С другой стороны, еще теплилась надежда. Правда, никто не знал, на что надеяться после катастрофы. Но солидарность, о которой я говорил, единство, стремление помогать друг другу не давали умереть и этой слабой, ничем не мотивированной надежде. Один из девизов того времени: «Дух победит грубую силу». Люди просто верили в то, что от них что-то зависит. И даже если прикатит миллион танков, все равно они с нами ничего сделать не смогут.
— Кстати, о танках… Вы одобрили операцию НАТО в Югославии, были одним из восьми европейских политиков, поддержавших вторжение американцев в Ирак. Можете по прошествии времени оценить свои решения с позиции нравственности в политике?
— Решение о военных операциях в бывшей Югославии и Ираке считаю правильным и морально оправданным. Войны в Югославии шли с начала девяностых. Я внимательно следил за тем, как мировая дипломатия в течение десяти лет пыталась их остановить, воспрепятствовать этническим чисткам, чудовищным преступлениям против гражданского населения. Но режим Милошевича всякий раз выдвигал новые требования, умышленно затягивал решение тяжелейших проблем, выигрывая тем самым время для продолжения этнического насилия. Десятилетие такой политики вело к последовательному исчерпанию дипломатических возможностей. Международное сообщество отступало перед Милошевичем. Этнические чистки в Косове, почти миллион беженцев стали той каплей, которая переполнила чашу терпения. Поэтому военная операция НАТО была реакцией на гуманитарную катастрофу, в которую режим Слободана Милошевича вверг собственных граждан.
И в случае с Ираком речь шла о защите иракцев от тирана. Как и в бывшей Югославии, это была демонстрация нашего неравнодушия к чужой трагедии. А вот обоснование военного вторжения было ошибочным, о чем я лично сказал президенту Бушу. Речь следовало вести не об оружии массового уничтожения, а о международной солидарности с жертвами жесточайшего режима.
Уместен вопрос: имеет ли международное сообщество право вмешиваться в дела того или иного государства с помощью военной силы? Мой ответ: да, имеет право, если есть прямая угроза жизни мирного населения. Военному вмешательству, естественно, должны предшествовать серьезные усилия международной дипломатии. Лучший путь таких действий — трибуна Организации Объединенных Наций. Однако нереформированная ООН сегодня — это скорее наследие холодной войны. Она не отвечает реалиям современного мира. Нельзя позволять диктатору в любой точке планеты убивать людей только потому, что этот диктатор плюет на авторитет ООН, придумывает какие-то немыслимые оправдания собственной жестокости или прячется за спину некоторой из сверхдержав. Мы должны понимать: тиран тем самым выигрывает время для убийства новых тысяч людей. Если какое-нибудь правительство уничтожает своих граждан, то мировое сообщество просто обязано вмешаться. Наблюдать за массовыми убийствами, за этническими чистками, ссылаясь при этом на международные договоры, на суверенитет государств, — это трусость. Нигде в мире нет договоров, которые бы разрешали и оправдывали преступления против гражданского населения. Выступая в связи с этим в канадском парламенте, я сказал, в частности: «Государство — творение человека, но человек — творение Божье». Я настаиваю: человеческая жизнь, человеческая свобода — выше неприкосновенности государственных границ.
Справка «Новой»
С приходом в январе 1968 года к руководству коммунистической партией Чехословакии Александра Дубчека ЧССР начала все больше демонстрировать независимость от Советского Союза.
В стране была практически отменена цензура, проходили свободные дискуссии, началось создание многопартийной системы. Реформаторы во главе с Дубчеком заявили о стремлении обеспечить полную свободу слова, собраний и передвижений, установить строгий контроль над деятельностью органов госбезопасности, облегчить возможность организации частных предприятий и снизить государственный контроль над производством. Кроме того, планировались федерализация государства и расширение полномочий органов власти субъектов ЧССР — Чехии и Словакии.
Политические реформы Дубчека и его соратников (построение «социализма с человеческим лицом») рассматривались руководителями СССР и ряда соцстран (ГДР, Польша, Болгария) как угроза партийно-административной системе.
4 мая 1968 года Леонид Брежнев принял делегацию во главе с Дубчеком в Москве и резко раскритиковал положение в ЧССР. 17 августа лидер венгерских коммунистов Янош Кадар сообщил Дубчеку, что ситуация становится критической. В этот же день Политбюро ЦК КПСС приняло решение «оказать военную помощь здоровым силам» в Чехословакии. В ночь с 20 на 21 августа войска стран Варшавского договора вторглись в ЧССР. Объединенной группировкой (до 500 тысяч военнослужащих и 5 тысяч танков) командовал генерал армии И.Г. Павловский.
Вторжение осуществлялось по 18 направлениям с территорий ГДР, Польши, СССР и Венгрии. В течение 36 часов армии стран Варшавского договора полностью оккупировали Чехословакию.
Чешские источники сообщают, что в ходе интервенции потери убитыми среди мирного населения составили 72 человека, сотни были ранены.
В 1969 году Александра Дубчека на посту руководителя КПЧ сменил Густав Гусак. Начался так называемый процесс нормализации, в ходе которого из страны по политическим мотивам эмигрировали около трехсот тысяч человек, полмиллиона не лояльных режиму коммунистов были «вычеркнуты» из партии.
Советская оккупация закончилась в июне 1991 года — с выводом из Чехословакии Центральной группы войск (более 100 тысяч военнослужащих).