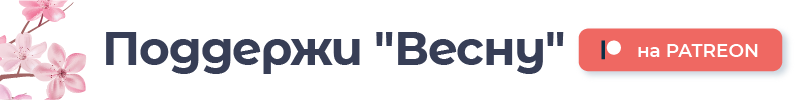"И даже когда у меня все хорошо, мне все равно плохо". Рассказ Миры, её сын — политзаключенный
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. В этот день рассказываем историю Миры (имя изменено в целях безопасности) – пенсионерки в эмиграции, её сын –политзаключенный. "Вясна" приводит рассказ Миры от первого лица: о себе и сыне, своей эмиграции и уязвимости положения пожилых людей в ней.

- Иллюстративное фото: pixnio.com
О себе
Я пенсионерка, 60 плюс. В Варшаве почти два года. Из Беларуси уехали с мужем более двух лет назад: сначала ехали через другую страну. Уехали из-за того, что задержали сына, и была угроза, что задержат и мужа. Собирались за два часа. Потом долгое-долгое путешествие. Сейчас уже вроде бы и привыкли немножечко. Хоть и очень хочется домой. Но при этом я хорошо осознаю, что мне хочется ДОМОЙ, а не в то, что там сейчас делается. Потому что там уже моего дома нет. По сути мне хочется в год 2019, 2020-ый...
Сын
Он маленький, невысокого роста. Он написал... Такую вот обманку сделали – рекрутация в полк Калиновского. И он написал, ни с кем не посоветовавшись. Такое еще запоздалое подростковое: "Я могу, я сделаю, я все сам". При этом он такой вояка, что... Ну он очень миролюбивый, ничем таким не занимался, и невысокий. Нет, физически он не слаб! [Но] я думаю, что если бы он написал в настоящий полк Калиновского, то никто его бы никуда не пригласил, учитывая его возраст и бэкграунд.
В восемь утра отправил сообщение (это все мы узнали уже после), а в десять за ним приехали [силовики]. И мы два дня не знали об этом. Это был понедельник. В воскресенье целый день он пробыл со мной. Мы как-то с ним много гуляли, ходили, разговаривали, все было хорошо. Жил он уже отдельно. И вот... В понедельник я не волновалась, во вторник он должен был зайти... Что-то я начала думать, где он делся. И тут мне позвонили с его работы: "Второй день его нет на работе". Начали искать, я думала: на велосипеде попал в аварию какую... Менты, разумеется, говорили, что его у них нет. До полуночи они нам рассказывали, что он не у них. Потом сказали, что надо было нормально воспитывать, "что же вы такого алкаша воспитали". А он на Новый год даже шампанское не пил. Ну и все, стало понятно, что он на Окрестина.
Сначала 13 суток. Он был уверен, что мы не знаем, где он. Два дня его таскали губоповцы по городу на машине, и он в окошко смотрел – вдруг кого-нибудь увидит... Издевались страшно. Он уже через года полтора об этом рассказывал.
Ну а потом после этих 13 суток мы сидели ждали его под Окрестина, и видели, как машина выезжает – это был момент, когда его увезли в отделение. А там уже "хулиганка": якобы он на них бросался и руками махал... Еще 15 суток. После этого позвонил следователь, сказал, что уголовное дело, мы свидетели.
Потом недели полторы прошло, нас уже вызвали на допрос – в пятницу вечером поздно на понедельник "с вещами". Мы еще как-то сначала думали, что делать, потому что у нас ни виз, ничего... Еще поколебались, придумывали, идти ли на этот допрос... Наконец наш знакомый юрист сказал: "Я не понимаю, что вы здесь делаете. Я не понимаю, чего вы сидите".
Вот так. И сейчас это все тянется, тянется и тянется. Вот уже несколько лет. А это более двух лет, как [сын] сидит. Ему следователь на каждый допрос таскал конфетки. И натаскал конфеток на четыре года [заключения].
Эмиграция
Понимаете, мне в эмиграции живется как шизофренику. То есть у меня в каком-то смысле психологическая шизофрения. Потому что сказать, что у меня здесь что-то плохо – нет, у меня все хорошо. У меня вообще наверное лучше, чем у кого. Потому что многим людям гораздо труднее, чем нам. Муж работает сейчас. Тяжело работает, конечно, но работает. Ну и мы живем с нашей невесткой, поэтому мы не одни, мы заняты, и нам помогают. В основном, люди сложнее живут, потому что у нас и крыша есть, и еда. Это с одной стороны.
А с другой стороны все плохо. В том смысле, что в Беларуси нас ищут, периодически приходят с обысками к тем детям, которые там остались... То есть невозможно жить хорошо, когда там плохо. И даже когда у меня все хорошо, у меня все равно плохо... А как может не болеть? Вот я же говорю, у меня все есть здесь, и у меня все нормально, низ пирамиды Маслоу у нас обеспечен. Но от этого никак не легче. Я все равно живу в этом ожидании – у меня в голове счетчик: пришло письмо [от сына], день, два, три, четыре – нормально... Пятый день – нет писем, шестой день – нет писем... В этих бесконечных заботах – что передать, как туда передать что-то для передачи, как деньги передать.
Письма
Сначала ему многие писали, и знакомые писали – но это все СИЗО. А потом, когда переводят в колонию, там [могут писать] только те, кто в личном деле. Хотя, по их внутренним правилам, переписка без ограничения, то есть написать может любой человек. Однако же его бабушка (моя мама) – она старенькая совсем, она ему писала периодически... Сначала первые пару месяцев письма пропускали, потом он стал спрашивать, почему бабушка перестала писать? Но это ее письма перестали доходить. Теперь вот на днях он сообщил, что больше не будут пропускать письма от сестры. Как он написал в письме: "Это просто нужно принять". Он растроен, но... что с этим поделаешь. Там все становятся фаталистами, как я понимаю. Нужно просто принять.
Перед тем, как запретили переписку с сестрой, были какие-то чудеса с перепиской с женой. Он стал писать – письма как бы приходят, но обрезанные. Притом она никогда не пишет ему ни на какие "такие" темы, то есть это обычные бытовые темы, но стали обрезать. Что это? Ну хорошо, что хоть что-то доходит. С другой стороны, я его постоянно просила – когда был момент, он очень тяжело работал, совсем не было времени, я просила: "Ну хотя бы на открытке напиши одно слово, там "Привет"". Чтобы просто она пришла – это немного времени нужно, чтобы подписать. Но мы хотя бы будем знать, что-то пришло, какое-то сообщение. Потому что если так пару недель ничего нет – начинаешь думать: либо это ШИЗО, или что-то случилось, либо заболел – что с ним?
Звонки им положены, раз или два в неделю. А у нас звонок был за все эти больше чем два года, по-моему, три раза, может четыре. Про скайп, про видеозвонки – мы даже не знаем такого. Еще слава богу, что свидания есть.
Во время следствия свиданий не было – свидания после того, как приговор вынесен. У нас еще сначала была мечта: вот вынесут сыну приговор – и можно будет вернуться. А потом вынесли приговор, все равно периодически приходят, ищут... Стало понятно, что уже все, никуда не вернемся, пока все не изменится. А доживем ли мы до этого, пока там все изменится, не знаю.
Свидания
Если это свидание короткое – то оно через стекло по телефону. То есть люди сидят на расстоянии (я сама не видела, просто [жена сына] мне рассказывала об этом), между ними двойное стекло, они друг друга видят и по телефону разговаривают. Там их слушают.
Если о длительных свиданиях, то она приезжает – где-то есть такая комната, она мне даже как-то схемы рисовала, но честно говоря, сейчас их не повторю... Ее заводят в какую-то комнату, проверяют, она должна все-все снять, телефон оставить, ни одной бумажки и ничего пишущего с собой, никаких заметок, ничего. Она везет ему только продукты – чем-то покормить и себя и его, это все проверяется, после ее заводят в комнату – у каждого отряда своя комнатка. Вот маленькая комната с телевизором, там две кровати, есть кухня общая на всех, холодильник – одна полочка (поэтому нужно рассчитать продукты, чтобы не вести с собой то, что может испортиться). Потом его приводят – он может взять с собой зубную щетку, зубную пасту и, кажется, бритву. И все. Два раза в день его забирают со свидания на построение. Возвращают обратно. Нож выдают по требованию на несколько минут, это хорошо помню, когда что-то нужно нарезать. И вот они проводят одну ночь по сути – и утром перед построением его забирают. Ну и разговаривать там тоже очень осторожно, потому что это все прослушивается – и там не очень раскрепостишься.
Каждый раз она рассказывает, что он очень напряженный, очень запуганный, боится всего. И совсем-совсем нездоровый. Лекарства запрещены, передавать ничего не можешь, медицинские передачи не подписывают, даже тяжелобольным людям трудно добиться этого. А тут у него гастрит по жизни. Но даже витаминки никакие не позволят. И если вдруг температура – это не повод для обращения в санчасть. Лечить их никто не лечит. Зубы не лечат принципиально. То есть стоматолог там существует для того, чтобы рвать зубы – если уж совсем все плохо, тогда вырвут. Последний раз он сказал, что ничего не слышит на левое ухо. Маленьким он много болел, у него отиты были бесконечные, поэтому если там было сколько-нибудь невылеченных простуд, то вполне может быть, что... Что это уже все... слух уже не возобновится.
Уязвимость положения
Это на самом деле настолько уязвимая группа, тех пенсионеров, кто вынужденно уехал. А люди же по-разному уезжают. Мы хотя бы уезжали – у нас было два рюкзака и два чемодана. Мы знали, куда мы едем, нас встречали, у нас были новые симки, новые билеты на самолеты. Но есть же люди, которые уезжали только с документами и деньгами и в том, что только на себе. Есть люди, которые [переходили границу], и даже не молодые.
Притом это не вопрос психологической помощи, потому что здесь никакая психологическая помощь не поможет, как бы это ни звучало. Вот, например, одна женщина-пенсионерка. Для того чтобы оплатить свою аренду и элементарно себя прокормить, ей нужно пахать, пахать и пахать. Понимаете, что люди в основном выехали непростые. Там, в той жизни мы по большей части были не уборщиками. Это люди с образованием, с каким-то опытом. А тут они мало того, что теряют резко в социальном положении, и когда, понимаете, у молодого человека есть еще время на то, чтобы откуда-то снизу подняться выше: можно подтянуть язык, можно как-то раскрутиться – что-то можно делать. То что делать нам, особенно, женщинам? Совсем не молодым, часто не здоровым. Мы не имеем иногда даже пенсии, многие из людей здесь не имеют ничего, в том числе медицинской страховки.
Это такой слой боли и какой-то беспомощности, потому что хорошо бы было, если бы мы понимали, что это на год, на два, на три... А мы все чаще думаем о том, что это, возможно, до конца нашей жизни. И что дальше? Хорошо, если кто-то хоть как-то социально устроен, например, у кого дети здесь... А ведь есть люди, которые совсем одиноки. И я не знаю, как, но эта проблема должна звучать, вместе с проблемой наших политзаключенных (которая самая первичная), потому что если там все решилось бы в Беларуси... Понимаете, многие из нас приехали, там у нас были по большей части своя квартира, по большей части нам хватало бы пенсии, мы бы нашли, как себя обеспечить. А тут у нас ничего нет. И это такой вопрос – как раз ко Дню пожилых людей (1 октября), дню первого пенсионерского Марша (5 октября), который собрал несколько тысяч, это был разрыв шаблона, так как Лукашенко всегда считал пенсионеров своим электоратом, а тут вдруг люди вышли против. И вот эти люди, такие же умные, и хорошо, если есть физические силы сейчас себя обеспечить – а не у у всех они есть: много людей с инвалидностью пожилых. И наверное, это то, о чем нужно больше говорить и больше думать. И не знаю как, но эту проблему надо решать.